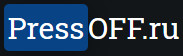Эта актриса редко дает интервью, но для «ТН» сделала исключение. Накануне своего юбилея Лариса Удовиченко рассказала о друзьях по ВГИКу, о съемках с Владимиром Высоцким и Алисой Фрейндлих, о дочери Маше и о многом другом.
— Лариса, так уж принято: в юбилейные дни оглянуться в прошлое, что-то в нем переоценить, итоги какие-то подвести… Как у вас в этом смысле, вы довольны своей судьбой?
— Я не считаю юбилеи некими вехами, по-моему, это просто образные даты, придуманные людьми. Ну, ладно, допустим, полвека — действительно знаковая дата, или 100-летие, как у Зельдина.
А остальное — точно ерунда, просто очередной день рождения. Промелькнул еще один год, так же как и предыдущие, для каждого человека в чем-то знаменательный, в чем-то неприметный. А что касается выводов и переоценок… Я в принципе склонна их делать — вне зависимости от юбилейных празднеств. С позиции своего сегодняшнего возраста понимаю, что, наверное, многого не сделала бы из того, что делала прежде, — впопыхах, в зашоре, в каком-то возбужденном эмоциональном состоянии. С кем-то не ссорилась бы, на что-то так категорично не реагировала бы. Хотя кто знает? Судьба ведь происходит из характера, а я всегда жила, да, впрочем, и сейчас живу сердцем и эмоциями. Иначе не умею. Другое дело, что теперь, с появлением определенного жизненного опыта, участия головы в моих поступках стало больше, но все равно в основном все делаю так, как подсказывает сердце. А значит, по большому счету ничего не переменилось.
— В какой же семье формировался ваш характер, определивший судьбу?
— Мамины родители — петербуржцы, преподавали в университете: бабушка — русский язык и литературу, а дед — то ли историю, то ли химию. Мама училась в ЛГИТМиКе, была очень красивая, похожа на Вивьен Ли. И такая интеллигентная, изысканная, утонченная, грациозная… Когда началась война, мамин курс эвакуировали, но сама она осталась в Ленинграде, со своей мамой, которая в это время лежала в больнице. Блокадные годы — страшные, столько довелось пережить. Все мамины родные, кроме брата, умерли от голода. А бабушка моя — от последствий голода. Когда американцы начали сбрасывать на город продукты и у людей появились продуктовые пайки, они, изможденные, оголодавшие, конечно же, набрасывались на еду. А сразу есть досыта нельзя ни в коем случае, только постепенно, по чуть-чуть. Многие ленинградцы-блокадники тогда погибли от заворота кишок. В их числе была и Клавдия Тимофеевна. И бедная моя мама завернула тело своей мамы в простыню и на саночках повезла на Пискаревское кладбище.
А папины родители — из деревни Будылка Сумской области. В семье все учителя. Но папа, в отличие от своих сестер, тоже ставших преподавателями, окончил в Харькове медицинский институт, а потом военную академию в Ленинграде. Дальше участвовал в финской войне, в боях на Халхин-Голе, а в Великую Отечественную прошел все фронты, вплоть до Берлина, что удивительно — без единого ранения. Чудо. А в начале войны папа служил на Дороге жизни. В то время 19-летняя мама, оставшаяся в городе после эвакуации ее института, стала работать воспитателем в детском садике. Во время переправы детишек ее случайно увидел папа и… влюбился. На всю жизнь. При том что у него была семья — жена, двое детей. Но что поделать — любовь.
Всю войну всеми возможными способами он маме помогал, заботился о ней, отовсюду слал свои военные пайки и таким образом помог выжить. А когда вернулся с фронта, они зажили вместе. Сначала нерасписанными, потому что папе нужно было получить развод от прежней жены. А потом поженились… К счастью, у нас с папиными детьми от первого брака на всю жизнь сложились изумительные отношения. Виктора, к сожалению, уже нет в живых, а дорогая, любимая сестричка Светлана по сей день со мной. Когда я много и тяжело снималась в разных сериалах (одна «Даша Васильева…» чего стоит!), у меня совсем не хватало времени на дочку, которая тогда еще училась в школе. Но кто-то же должен был ею заниматься, быть душой дома. Вот такой душой и стала Светлана. Она удивительная — жизнерадостная, веселая, легкая, даже сейчас, в свои 78 лет, наивна и чиста, как ребенок.
Поскольку папа был человеком служивым, военным врачом, наша семья постоянно колесила, у нас даже адресов не было, лишь номера воинских частей. И мама всюду возила с собой остатки фамильного серебра, кузнецовского сервиза — красивые молочники, супницы, чашечки. (С улыбкой.) Кому они в гарнизонах были нужны, непонятно.
Я родилась в Австрии, поскольку тогда папина часть в составе советских войск располагалась в Вене. Но там я провела только первый год своей жизни. Дальше были бесчисленные переезды по нашей стране, а когда мне исполнилось семь лет, папа демобилизовался в звании подполковника медицинской службы, и мы осели в Одессе. Отец вышел на пенсию, которая была очень приличной, точно помню — 360 рублей; а мама по старой памяти опять стала воспитательницей в детсадике.
Папа был очень компанейским, веселым, оптимистичным, артистичным. Когда к нам приходили гости и выпивалось определенное количество горячительного, любил петь оперные арии, и, кстати, пел хорошо. В отличие от меня, к слову, совершенно лишенной слуха и голоса. А мама была более замкнутая, молчаливая, наверное, блокада так повлияла на ее характер. Но я почему-то больше тянулась к ней. Хорошо мы жили, дружно. И с сестрой дружили. Яна старше меня на семь лет, в отсутствие родителей, конечно же, верховодила, и я вынуждена была ей подчиняться. Но любила и люблю очень. Яна окончила экономическое отделение Политехнического института, а работать стала на киностудии — сначала администратором, потом директором картины, а затем в одесском Союзе кинематографистов.
С родителями Музой Алексеевной и Иваном Никоновичем и старшей сестрой — Яной. Фото: Из личного архива Ларисы Удовиченко
— А вас как завлекло актерское дело?
— Я с раннего детства была уверена в том, что стану актрисой. Наверное, мамины гены сработали. В школе была невероятно занята. Во-первых, серьезно занималась художественной гимнастикой — ездила на тренировки в профессиональную спортивную школу,
а во-вторых, посещала школьный драмкружок, из которого в старших классах перешла в Народную студию актера при Одесской киностудии, где проучилась три года. Это была профессиональная школа, где преподавали сценическое движение, речь, пластику, историю искусств и, естественно, актерское мастерство. Мы снимались в массовках, а мне даже довелось сыграть главную роль — Людмилочку в дипломной картине Александра Павловского «Счастливый Кукушкин». Там же в мужской роли дебютировал тогда еще никому не известный Владимир Меньшов. Ну а как только я получила аттестат, отправилась в Москву — получать актерское образование. Другие варианты даже не рассматривала.
— Родители не побоялись выпускать вас, совсем юную, из семейного гнезда?
— Нет, тогда ведь жизнь была не страшная и они ничего не опасались. К тому же ехала я не одна, а в компании нескольких человек из нашей студии. Да еще мне в столице было где остановиться. Там жил мой двоюродный дядюшка — замечательный художник с женой-искусствоведом.
Как принято, подала документы во все московские театральные вузы, но тур окончательного отбора первым был во ВГИКе, и я его прошла. А поскольку курс набирали Сергей Герасимов и Тамара Макарова — а о лучшем нельзя и мечтать, — дальше я уже не видела смысла пробоваться еще куда-то.
На время учебы переселилась во вгиковское общежитие. Кто бы мог тогда подумать, что ребята, с которыми запросто общались, куролесили, валяли дурака, станут впоследствии прославленными режиссерами и актерами! Александр Сокуров учился на факультете научно-популярного кино, но тогда уже думал о художественном и постоянно приходил к своей однокурснице, моей соседке по комнате, обсуждать сценарии. До утра готовы были болтать, а я умирала, как хотела спать, и выпроваживала: «Саша, уже поздно, сил нет,
пожалуйста, уходи!» Встретившись много лет спустя, мы со смехом вспоминали, как я его выгоняла. Я оправдывалась: «Саш, но я же не знала, что ты окажешься гением, а спать хотелось…» Александр Панкратов-Черный тогда же с нами учился, Борис Токарев, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Сергей Никоненко, Павел Чухрай — на режиссерском факультете, нынешний глава «Мосфильма» Карен Шахназаров… Все собирались, что-то обсуждали, спорили, шутили. Это были замечательные творческие посиделки, но я и подумать не могла, что окружена такими талантами. Тогда все были равны. А Николай Еременко, окончивший курс Герасимова на пять лет раньше, был нашим наставником — учил нас, как себя вести, как играть. Одно время, после того как он отслужил в армии и деваться ему было некуда, вообще жил в нашей комнате, на свободной кровати. Мы очень дружили.
— Вокруг такое количество одаренных красавцев-мужчин. Не были же вы настолько зациклены на учебе, чтобы не влюбляться?
— Нет, конечно. Естественно, влюблялась, я же была молодая. Но я никогда не проявляла активность, никогда первой не делала шаг навстречу. Во всех моих отношениях завоевывали меня. Я не стану называть людей, которые были со мной рядом. По-моему, это неэтично — все мы давно уже взрослые тети и дяди, у всех семьи. Зачем вносить дискомфорт в налаженную жизнь рассказами о давно прошедших отношениях?
— Ладно, без имен. Но скажите, вы только снисходительно позволяли себя любить или все-таки и сами влюблялись?
— Ну конечно, влюблялась, и все сопутствующие составляющие присутствовали: радость, ревность, обида, преданность беззаветная… И ссоры были, и примирения. Все, как и положено в молодости. Больше всего я страдала, если мне казалось, что мой избранник поглядывает в другую сторону. Сильно мучилась из-за этого, но внутри себя. Рассуждала так: раз он заинтересовался другой, значит, я должна отступить. Никогда в жизни не сражалась за мужчину, не участвовала ни в склоках, ни в выяснениях отношений.
— У вас столь сильный характер или вы просто понимали, что, являясь такой привлекательной девушкой, никогда не останетесь без мужского внимания?
— Ни то, ни другое. Это просто самозащита организма. Чтобы не разъедалось сердце. Так диктует мне мое «я». Как бы мне ни было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу. Это даже не от меня зависит, просто свойство психики, родилась я такой.
— Но понимали же, что вы — красавица, у которой на роду написано быть в центре мужского внимания?
— Меня это очень раздражало, я твердила: «Боже мой, как все надоели! Когда уже они от меня отстанут?!» Подружки надо мной подсмеивались. А Леонид Ярмольник, мой хороший друг, подначивал: «Не волнуйся, вот будет тебе 40 лет, станешь и так и этак кокетничать, подмигивать, приманивать, и никто на тебя не посмотрит». И вот мы встречаемся на моем прошлом, 50-летнем юбилее, и я говорю: «Леня, знаешь, а ведь мне пока еще не приходится никому подмигивать, как ты предрекал, на меня до сих пор заглядываются». Он, нахал такой, нашелся: «Так время другое, — смеется. — Сейчас любят вас, пожилых женщин».
Фото: Сергей Иванов
— Скажите, а, переехав в Москву, вы скучали по дому или полностью погрузились в новую атмосферу творчества и любви?
— Нет, я плакала, каждый день писала маме слезные письма. И она гениально меня успокаивала. Отвечала: «Доченька, если тебе так мучительно трудно, тоскливо, настолько плохо, возвращайся, родная, обратно». Ой, нет, так я не хотела — и тут же приходила в себя. Постепенно перешагнула через свою тоску… (Помолчав.) Увы, я скоро поняла, что такое тоска настоящая, непоправимая.
У мамы образовался рак, который развился очень быстро. Ее не стало в 51 год, когда я училась на третьем курсе. 2 мая будет уже 40 лет… Мы с мамой были невероятно близки. Она вложила в меня все, что в то время можно было вложить, — увлекла творчеством, литературой, привила мне любовь к живописи. В общем, мама была для меня всем.
Похоронив маму, я не могла надолго остаться в Одессе, вынуждена была вернуться, чтобы сдавать сессию. И, наверное, вот эта занятость — необходимость что-то учить, работать, готовить отрывки, — помогла; если так можно сказать, мне стало чуть-чуть полегче. Не оставалось времени, чтобы зацикливаться на этом кошмаре. Но каждую свободную минуту я думала о маме, разговаривала с ней. Именно тогда пришла к вере. Получается, опять благодаря маме — через горе после ее потери, через невыносимую боль, которую ничем невозможно унять, через осознание того, что помочь мне в моей безысходности не может никто. Одна пожилая женщина посоветовала пойти в храм: «Сходи, деточка, постой на службе, помолись». И я, почти сожженная внутри от отчаяния, пошла. Не понимая ничего ни про службы, ни про то, кому ставить свечку, как просить о помощи. Но… Оказалось, что и неумелое чтение молитв, и даже просто присутствие на проповеди каким-то непонятным образом поддерживает, хотя ты про это еще ничего не знаешь. (После паузы.) Папа пережил маму на семь лет. К счастью, у моей сестры в Одессе родился ребенок, папа стал дедушкой, и это его как-то отвлекло.
— Получается, мама не застала ваших успехов?
— Она посмотрела только фильм «Дочки-матери» — будучи уже тяжело больной, три раза ходила в ближайший кинотеатр, и ей очень нравилось. Герасимов ведь позвал меня в свой фильм, когда я еще училась на втором курсе. Таким образом, учеба продолжалась прямо на съемочной площадке.
— Перед Смоктуновским не заробели?
— Ой, нет, он был совершенно простым, не пафосным человеком. Помню, меня поразило, что он приходил на съемку в мятых парусиновых штанах, в поношенном свитере. Я думала: «Боже, как же так можно?» А ему просто было так удобно. Сейчас-то я его так хорошо понимаю — мы все являемся на репетиции одетые еще похлеще Иннокентия Михайловича. Он-то не позволял себе являться на съемки в спортивных штанах, а мы — запросто. Но тогда мне казалось, что надо приодеться понаряднее, подкраситься, что называется, эффектно подать себя. Наверняка опытные артисты надо мной подсмеивались.
После этого фильма я стала сниматься практически без перерыва, причем приглашали в хорошие картины, и на каждой площадке старалась чему-то научиться. Например, в «Летучей мыши» мне очень помогала Людмила Васильевна Максакова. Она свои советы всегда предваряла словами «Я тебе говорю как педагог…».
А как мне, спустя годы, было интересно работать с Алисой Бруновной Фрейндлих в «Женской логике», великой актрисой! Я ловила каждое ее слово. (С улыбкой.) Представляете, оказалось, что вне работы мы с ней существуем похоже. Алиса Бруновна жила в маленьком коттеджике, а я — в гостиничном номере. Художник по костюмам каждый день заходила за нами и однажды, уже в конце фильма, сказала: «Я стеснялась вас спросить, но и у вас, и у Алисы Бруновны какие-то странные отпечатки вокруг глаз — что это? А еще в ваших номерах одинаково пахнет…» Оказалось, мы с Фрейндлих спали в самолетных очках, чтобы утреннее одесское солнце не разбудило раньше времени, а они оставляли на лице следы. А еще мы обе на ночь пили валокордин и одинаковые таблетки снотворного — я по половинке, а ей, чтобы заснуть, четверти хватало. И все это не сговариваясь. Выяснилось, что и текст мы всегда учим заранее, а не перед съемкой. Я очень гордилась этими совпадениями.
С Алисой Бруновной Фрейндлих во время съемок фильма «Женская логика 2» (2003). Фото: Из личного архива Ларисы Удовиченко
— Лариса, а как вам, иногородней, после окончания ВГИКа удалось удержаться в Москве? Тогда же с этим было строго, многие даже фиктивно выходили замуж ради московской прописки…
— Я не исключение. Когда шло распределение, меня спросили: «А что у вас с пропиской, будет ли?» Я отважно ответила: «Конечно!» Не представляя, каким образом. Но мне устроили фиктивный брак с одним молодым человеком. Из этого ничего не получилось. В результате меня прописали к себе мои родственники — на время съемок. Снималась я много — по пять-шесть картин в год, большинство из которых делались на «Мосфильме». А там работал замечательный человек — Агафонов, директор по хозяйственной части, который всем помогал, за что все его обожали. Вот он и устроил меня в очередь на кооператив. По сути все было законно, все-таки, снимаясь, я приносила киностудии некоторую пользу. Так я стала москвичкой.
— Известно, что в дальнейшем у вас было два нефиктивных брака…
— Простите, но, опять же, мне не хотелось бы об этом вспоминать. По причинам, о которых я уже говорила. Для меня эти отношения давно закрыты; у всех своя жизнь, новые семьи, и я не считаю возможным ворошить прошлое рассказами о своих прежних отношениях с мужчинами, ставшими близкими другим женщинам.
— Лариса, а как вы прочувствовали свою популярность?
— Такого, чтобы я проснулась знаменитой, не было. Люди ко мне как бы привыкали, постепенно стали узнавать, фамилию выучили, начали подходить, автографы просить, говорили: «Ой, как приятно вас видеть!» Правда, часто путали с Тереховой и Вертинской, и огорчались, что я не одна из них. Со временем появились и мои личные поклонники, порой назойливые. Меня всегда раздражало и тяготило повышенное внимание ко мне, настойчивое желание пообщаться. Не хотелось никому ничего рассказывать. Некоторые были
активными, надоедливыми в своих признаниях, звонках, письмах — в те времена киноактерам писали письма. И я получала, какие-то — интересные, достойные — храню до сих пор.
Помню, один человек все писал из тюрьмы, и продолжалось это довольно долго. Однажды раздается звонок в мою квартиру. Открываю, на пороге стоит незнакомый мужчина, улыбается. «Вот, — говорит, — отмотал я свой срок и приехал». А я дома одна с маленькой дочкой. В ужасе захлопнула дверь, он давай колотить: «Откройте, откройте, все равно войду!» Маша плачет, надрывается. Я к телефону, вызвала милицию. Они приехали, скрутили ему руки, позвонили мне, я вышла. Спрашивают: «Вы знаете этого человека?» — «Нет, не знаю». К нему: «Зачем вы сюда пришли?» И он отвечает: «Люблю ее, хочу жениться». Они его увезли. Потом позвонили мне, рассказали, что, оказывается, дядька этот еще и какой-то полупомешанный, в психиатрическом диспансере стоит на учете, а адрес мой узнал в адресном бюро. Было страшно.
В общем, я давным-давно уже перестала даже к телефону подходить. Когда еще не было мобильных, с домашнего тоже трубку не снимала. На звонки отвечаю лишь своим.
И одеваться я стараюсь неброско, на улице пытаюсь замаскироваться: закутываюсь в шарф, в платок, практически не снимаю темные очки. И вообще мой комфорт — забраться в свой, как я говорю, кошкин дом и спрятаться там. От всех изолироваться. Так и сидела бы, никуда не выходя — ни на фестивали, ни на другие мероприятия, где нужно блистать, быть красивой. Честное слово, ничего этого мне уже не нужно.
Раньше, когда была молоденькой, 30-35-летней, как-то все легко было: и ночи бессонные, и прогулки до утра, а наутро как ни в чем не бывало отправлялись на съемку. Встрепенешься, реснички-губки подкрасишь, головку вымоешь, хвостик завяжешь — и снова красавица, готова к «творческим свершениям». А теперь на все приходится тратить время. Выспаться надо как следует, в парикмахерскую пойти, чтобы не впопыхах сделать укладку, маникюр, над макияжем поработать… Словом, все требует усилий и времени, то есть затраты жизни. А тратить ее на это уже совсем не хочется.
— Как ни крути, но из более сотни ваших киноролей самой знаковой, практически вашим брендом, стала эпизодическая героиня Манька Облигация в говорухинском фильме «Место встречи изменить нельзя». Не обидно?
— Нисколько. Очень люблю эту картину. Причем мне ведь сначала предложили сыграть роль Вари Синичкиной, возлюбленной Шарапова. Прислали сценарий, называвшийся «Эра милосердия», я прочитала, восхитилась и… не захотела играть большую и главную роль. Слишком уж она лирическая, хорошая, правильная. Скучноватая. И когда Говорухин меня вызвал, сразу же сказала ему о том, что хочу сыграть Маньку Облигацию. Он категорически отказался. «Нет, ты внешне не подходишь. Посмотри на себя — маленькая, лирическая, инфантильная. Какая из тебя проститутка со стажем?!» И отправил восвояси. А через некоторое время мне вдруг приходит телеграмма: «Вы утверждены на роль». Потом я спрашивала Говорухина: «Станислав Сергеевич, как же вы могли меня утвердить на Маньку, если, по вашему же мнению, я на нее совсем не подходила?» Знаете, что ответил? «А я подумал: раз ты так хочешь, значит,
что-то себе придумала, вот и решил попробовать. С Высоцким договорился: если не получится — уедешь, и мы возьмем кого-нибудь другого».
Получив телеграмму, я дико перепугалась, боялась, что не оправдаю доверия, не справлюсь с ролью, не знала, как себя вести. Дома выучила текст, пыталась подавать его и так и сяк — и всяким вариантом была недовольна… На съемках в первый день — репетиция, сцена за столом с Высоцким. От ужаса я ничего не играла, не изобретала, просто жила. Но заметила, как они со Станиславом Сергеевичем удовлетворительно перекивнули друг другу. Ну а дальше, когда уже снимались, они оба, и Владимир Конкин тоже, всеми силами помогали мне, соучаствовали. И все равно я страшно волновалась, мандражировала, зажималась, но… Знаете, у актеров есть такой термин «нахальство от зажима». (С улыбкой.) Вот оно из меня просто поперло, благодаря чему в результате получилось так, как получилось, — без разнузданности.
— Говорухин мне категорически отказал: «Посмотри на себя! Какая ты проститутка со стажем?» И отправил восвояси. С Владимиром Высоцким в фильме «Место встречи изменить нельзя». (Манька Облигация и Глеб Жеглов)
— Но ведь нужно было поймать стилистику персонажа — женщины из такой социальной сферы…
— А я абсолютно не поймала. Я, девочка из хорошей семьи, передала свое детское представление о том, как может себя вести дама легкого поведения. Все умозрительно. И героиня получилась, скажем так, растерянной в своей искренности. Может, в этом и заключается ее шарм.
— До съемок вы знали Высоцкого?
— Нет. Слышала его песни, но особенно не понимала. Так что не была влюблена ни в творчество его, ни тем более в него самого. Хотя потом находились люди, намекавшие на какие-то наши с ним отношения. Но это чушь. Я воспринимала Высоцкого как взрослого человека, известную личность. И главное, у меня уже была любовь. В то время я жила в состоянии влюбленности, в прекрасном романе с моим первым мужем — который не фиктивный, а настоящий, — а потому все остальное для меня не существовало никак. Соответственно и Владимир Семенович был просто партнером по фильму. И никакого пиетета, понимания, что общаюсь с великим человеком, не было. Наоборот, он мне казался немножко снобом, поэтому хотелось поскорее убежать со съемочной площадки. Это сейчас я с восхищением читаю книжки его стихов, слушаю песни и понимаю, каким он был гениальным, неординарным, творчески одаренным, какая в нем бездна эрудиции, мудрости и юмора… (Помолчав.) Некоторые желтые издания предлагают мне деньги, причем немалые, за то, чтобы я придумала какие-то жареные истории о наших с ним отношениях. Я говорю: «Да ничего такого не было!» А мне отвечают: «Какая разница? Кто проверит?» Я считаю это безнравственным. Не стану ничего придумывать, мне не нужна ни популярность дешевая, ни такие дурно пахнущие деньги.
— С Говорухиным вы тоже встретились впервые?
— Нет, его знала раньше — он же работал на Одесской киностудии. Более того, я даже снималась у него в фильме «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» — играла служанку, в которую в юности был влюблен Робинзон. Так красиво был снят мой эпизод — среди роз, в старинном замке, и я вся воздушная, в локонах, в чудесном чепчике. Я тогда училась в 10-м классе и на премьеру позвала весь свой класс. Все пришли смотреть, но… меня в фильме не оказалось — мою сцену вырезали. И когда Станислав Сергеевич пригласил меня в «Место встречи…», я ему об этом напомнила.
— Как же обидно! Все-таки жестокая у вас профессия.
— Сначала я сильно огорчалась, реагировала болезненно, но постепенно приучила себя не расстраиваться. Просто четко сформулировала рецепт спасения: никогда не надо надеяться. Всё! Не надеешься — и нет никаких расстройств.
— Но разве можно идти на пробы без надежды на положительный результат?
— Как оказалось, можно, поверьте. В моей жизни было столько неприятных эпизодов такого рода, столько разочарований. Допустим, у Иосифа Хейфица в фильме «Шурочка» по Куприну я была утверждена на главную роль, даже костюмы мне сшили. Более того, я тогда снималась в фильме «Женатый холостяк», и они специально ждали, когда те съемки закончатся. А в результате Хейфиц написал мне несколько писем о том, что, мол, долго мучился, размышлял, но пришел к выводу, что «вы можете не торопиться, мы вызвали другую актрису». Я тогда очень переживала. Так же было с фильмом Михаила Швейцера «Крейцерова соната». Сколько репетиций было с Янковским и Башметом, который тоже должен был участвовать в картине, сколько кинопроб! В прессе замелькала информация о том, что я снимаюсь в экранизации Льва Толстого. И вдруг возникает Ирина Селезнева, которая потом эмигрировала в Израиль. Оказалось, что она внешне очень похожа на молодую Соню, Софью Абрамовну Милькину — жену и сорежиссера Михаила Абрамовича. Как только Швейцеру ее показали, он воскликнул: «Так она же — вылитая ты, Сонечка, в молодости!» — и вопрос решился не в мою пользу. Все отказы я воспринимала болезненно. А потом просто перестала надеяться. Вот когда картина выйдет на экраны, я могу констатировать: работа состоялась. И ни секундой раньше. В кино все так мгновенно меняется, переносится и вообще уносится в небытие…
— А как вы реагируете на стрессовую ситуацию — истерите, напиваетесь?
— Алкоголь?! Боже сохрани! Во-первых, я даже не представляю, как это, а во-вторых, есть другой, гораздо более действенный способ — нарыдаться, а потом пойти в храм, чтобы там душа очистилась, успокоилась. Вот я поплачу и иду просить у Господа защиты и помощи — в свой, ближайший храм, маленький, не пафосный, не раскрученный; хожу туда постоянно уже лет семнадцать. Помогает, защищает. Или в монастырь еду, к своему чудесному духовному наставнику, отцу Феофилакту; всеми своими проблемами, сомнениями,
страданиями, страстями и обидами делюсь с ним. Он такой позитивный, легкий в общении, с юмором, с ним можно беседовать на самые разные темы, ничего не утаивая, быть совершенно искренней и открытой.
А еще у меня есть давний друг, с детства, Евгений Никифоров — воцерковленный человек; он возглавляет православное общество «Радонеж», и я с ним советуюсь. Иногда мы вместе ездим как паломники по святым местам. Как-то, когда желтая пресса меня совсем доконала, я поделилась: «Женя, не могу справиться с собой, обида гложет, все силы забирает, знаю: даже если исповедуюсь, все равно не прощу». Он говорит: «А ты все, что чувствуешь, то и скажи батюшке». Мы тогда путешествовали по Италии и заехали в город Бари, в базилику Святого Николая, где хранятся мощи Николая Чудотворца. Я тут же подошла к настоятелю, рассказала все, что накопилось в душе. И он ответил: «Главное — вы осознаете и обиду свою, и неготовность простить. А теперь задумайтесь о своем здоровье, о душе — что с вами будет, если вы не измените ситуацию внутри себя? Постарайтесь внутренне себя отгородить, чтобы это на вас так не влияло».
— Благословения на участие в тех или иных фильмах спрашиваете — допустим, когда в «Сукиных детях» снимались обнаженной?
— Нет, на роли никогда не просила благословения. Зачем? Ни в каких чернушных фильмах с насилием, жестокостью и скабрезностями я все равно не снимаюсь. А в той картине Леонида Филатова я и не предполагала, что должна буду сниматься обнаженной. Изначально и задачи такой не стояло, потом уже, в самом конце, решили переснять этот эпизод. Леня очень просил, говорил, что иначе не будет того шока, который нужен. Я стеснялась, не хотела, отказывалась. Знаете, кто уговорил? Нина Шацкая, Ленина супруга. Она сказала: «Лара, ну правда, очень надо — для фильма. Не обижай отказом». Я сдалась, только спросила: «Не заревнуешь?» — «С ума сошла?! Я же сама артистка». (С улыбкой.) А теперь такого рода сцены, даже гораздо круче, в каждом втором фильме, и ни у кого никакого шока нет.
— Из сонма картин с вашим участием лично для вас есть любимая?
— «Дашу Васильеву…» обожаю. На самом деле я никогда не любила детективы, не читала их. Но, начав сниматься в сериале, волей-неволей стала знакомиться с донцовскими детективными историями. Они оказались с добрым юмором и совсем нестрашные, а для меня это так важно. И я там столько разных жизней прожила со своей неунывающей героиней, умеющей из каждой ситуации выйти достойно. Четыре сезона мы выпустили подряд, должны были делать пятый, но я не выдержала, попросила отдыха, а потом, к сожалению, сериал так и не возобновили. Но я правда тогда очень-очень устала — когда на тебе держится все, невероятно трудно. Работа ведь идет нон-стоп, рабочий день по 12 часов. И в выходные не отдохнешь, потому что в эти дни я играла антрепризные спектакли, от которых, естественно, отказаться не могла, чтобы не подвести своих коллег.
В 1998 году я открыла для себя театральную сцену. Для киноактрисы — совершенно другие ощущения. Я стала играть в театре — с легкой руки Виталия Соломина в его спектакле «Сирена и Виктория», в котором играл он сам и замечательная Ирина Розанова. Вначале трусила страшно, Виталий Мефодьевич еле уговорил. Согласилась лишь после того, как он пообещал меня всему научить. И, спасибо ему великое, научил. Потом уже я участвовала во многих антрепризах: «Кто последний за любовью?», «Похищение Сабинянинова», где моей партнершей была фантастическая Людмила Гурченко, «Роза с двойным ароматом», «Женитесь на мне». И всякий раз сцена оказывает на меня какое-то магическое воздействие. Просто волшебство!
— Лариса, к рождению дочери вы внутренне были готовы?
— Я созрела для того, чтобы стать мамой, и мне хотелось именно девочку. Так и получилось. Маша родилась в период, когда кино почти не снималось, благодаря чему я оказалась более свободной, чем обычно, и имела возможность не отрываться от ребенка, проводить с дочкой много времени. Ну а потом, конечно, с этим стало сложнее, работы становилось все больше. Оставить своего ребенка с кем-то чужим я не хотела категорически, а тут, к счастью, приехала с Украины моя тетя, сестра папы. Она — пенсионерка, в прошлом учительница математики, незамужняя, бездетная — очень помогла мне.
— Какие-то принципы воспитания у вас были?
— Никаких, только слепая любовь. И должна сказать, девочка у меня получилась просто золотая. Хрупкая, деликатная, бесхитростная, с чистой душой, открытая миру. Сложностей подросткового периода вообще никаких не возникало. Росла тихая, спокойная девочка, погруженная в свои интересы и увлечения: чтение, восточную философию, написание рассказов, волнующих душу, сценариев. Потом читала их мне… Правда, замечательная дочка — не капризная, не вредная, скромная до невозможности. Когда Маша училась на факультете международных экономических отношений в Плехановском университете, на полгода она поехала на стажировку в Париж. В конце поездки я спросила по телефону: «Ну, ты себе что-то купила?» Там же глаза разбегаются, настолько витрины манят. И дочь ответила: «Да, купила. Носки». Было очень смешно.
— Ваша узнаваемость была дочери приятна?
— Она была измучена этим. Видя, как я прячусь от всех, с детства привыкла ни о чем личном не говорить, скрываться, по телефону не отвечать, про меня ничего не рассказывать и на людях не называть меня Ларой, чтобы никто не узнал, что это я.